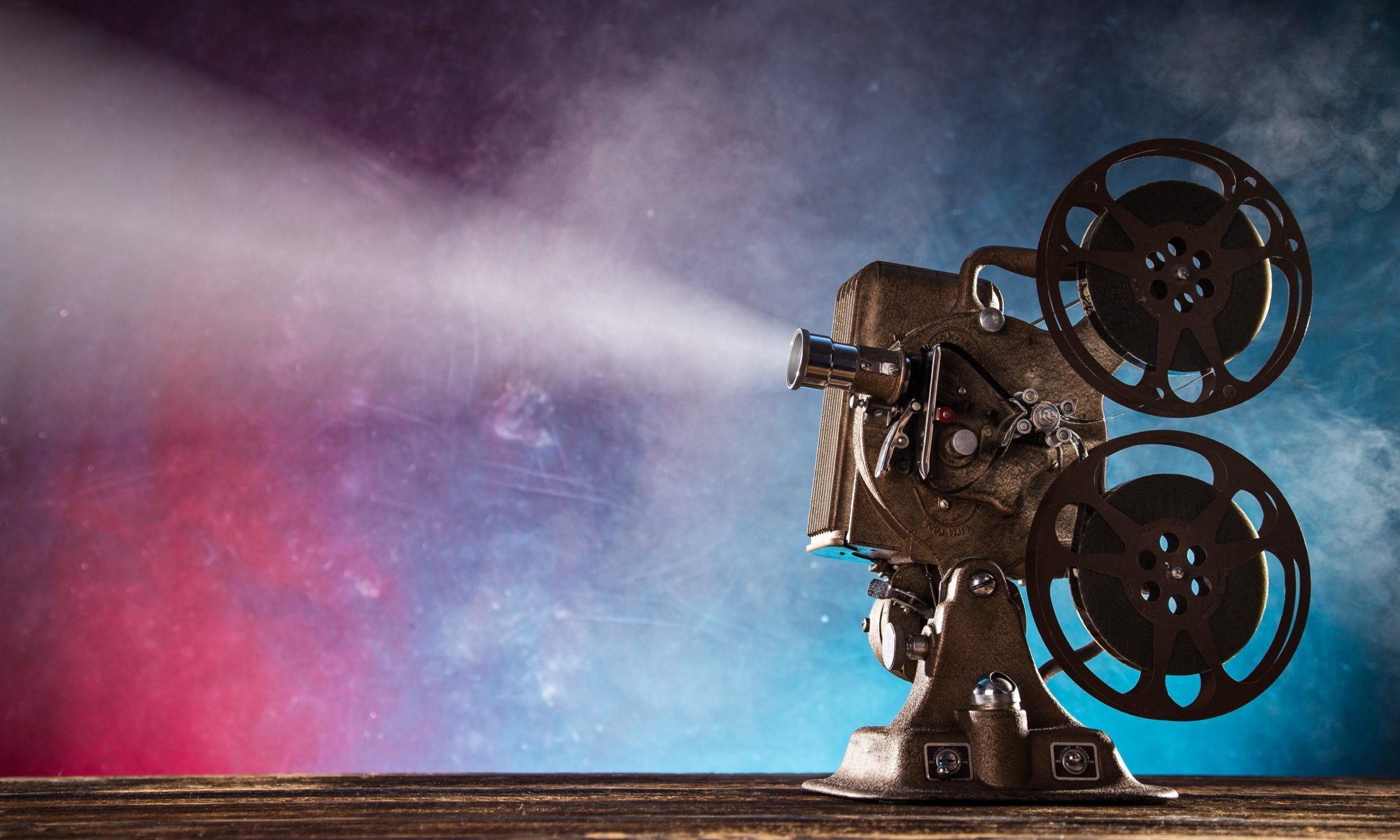Послевоенная чувашская деревня. Комбайнеру Тосе вручают вместо желанного пестрого ситца переходящее красное знамя, на которое в убогом ее деревянном доме то и дело покушаются мыши. Чтобы скрыть порчу, героиня принимает решение каждый год побеждать в соцсоревновании.
Комедийная завязка останется единственным островком драматургии в картине. Возможно, причина в том, что картина задумывалась как короткометражная. Так или иначе — ни одном «макгафине». Сойдет с ума мать, упьется до смерти муж, погибнут дети, а забывшая семью героиня в течении часа экранного времени будет штопать свое бархатную награду под бесстрастный дикторский комментарий покойника-сына. Закадровый текст — бич фестивальных фильмов. Он присутствует в 9 из 10 фестивальных картин, и в 9 из 10 картин где он присутствует, он не более чем словесная компенсация кинематографической несостоятельности. А во «Времени жатвы» он просто лишний. Пустой телевизионный прием, позволяющий домохозяевам отвлекаться от экрана, не теряя при этом нити повествования. На мой взгляд, картина Разбежкиной много бы приобрела, если просто отключить закадровый текст. Бубнящий голос экскурсовода по истории своей семьи сводит картину к упрощенной формуле, не давая зрителю свободно перемещаться в метафорических пространствах картины в поисках смысла.
Изобразительные метафоры, пусть и сводимые на нет закадровым текстом, в картине присутствуют. Вернее даже разные ипостаси одной метафоры, касающейся отношений человека с историей. Это и знамя, постепенно уходящее в небытие вместе с исторической памятью. И почти не открывающие рта в своем экзистенциальном одиночестве герои — немые свидетели эпохи. И ангельский прах, парящий в воздухе — поминальная молитва праху истории, памятник безымянному человеку, перемолотому ее жерновами. Эта интонация замечательно правдива и притягательна, но ее не хватает на полный метр, а никакого развития не происходит.
Зато неожиданно происходит смена декораций в финале. Мы покидаем насиженное за час условно-красивое пространство и оказываемся в «реальной городской квартире». Появляется какая-то девочка в перестроечных джинсовых шортах (плохо даже не то, что она одета по моде десятилетней давности, но это прежде всего по мысли десятилетней давности!) и, повязав на голову остаток знамени с поблекшей коммунистической троицей, отправляется в путешествие по ландшафту спальных районов в духе пролога к «Иронии судьбы», вероятно призванному символизировать современность.
Эта милая, не лишенная достоинств, но в общем-то пустая картина получила приз Жюри Международной кинокритики (ФИПРЕССИ) как лучший фильм основного конкурса и диплом Жюри Российской кинокритики. Почему? Эти награды симптоматичны. Отрыв от советской кинематографической традиции — самая больная и актуальная проблема сегодняшнего российского кинопроцесса. Порвалась связь времен. Год назад мучимый этой гамлетовской проблемой отечественный кинематограф разродился «Возвращением». Знакомые позывные прошлого ласкали ухо, и в этом году члены жюри искали подобную картину, а картина, наученная позитивным опытом Звягинцева, еще на стадии замысла уже искала свое жюри. И, если «Возвращение» напомнило Тарковского, то «Время жатвы» развернуло целый калейдоскоп воспоминаний. Образ героини вызывает в памяти худое скуластое скуластое лицо Марфы Лапкиной из «Генеральной линии» и одновременно напоминает всех женщин с картин Петрова-Водкина. Раз от раза уменьшающееся знамя пришло из «Фаворитов луны», специфический, адресованный из будущего в прошлое, закадровый текст — из картины «Мой друг Иван Лапшин». Операторская работа Ирины Уральской восходит стилистике Рерберга. Но что останется, если великие дарители разберут свои дары? К сожалению, ничего.
Нет в прошлом исчерпывающих ответов на вопросы настоящего. Не войти дважды в одну реку. Обращение к эстетике ушедших дней не избавляет режиссера от необходимости ответов на эти вопросы, от собственно авторского высказывания. И тогда, как ни сладко узнавание, это лишь плацебо, пустая оболочка.